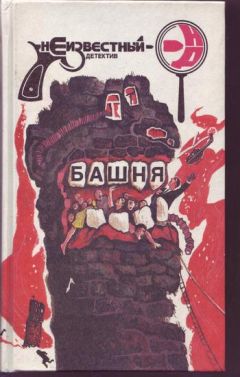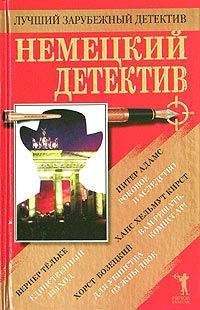Из записок отставного криминалиста Келлера.
«Разумеется, в нашей работе существуют испытанные методики и проверенные подходы. Но не часто они помогают. Ни один криминальный случай — а тяжкие преступления тем более — не похож один на другой. На практике это означает, что всегда приходится начинать сначала, словно впервые сталкиваясь с преступлением. Поэтому так важно, чтобы у криминалиста было достаточно терпения и энергии.
Преступность не признает никаких правил, у нее всегда новое лицо. Не исключая даже самых примитивных и грубых случаев в историй криминалистики. Так, маньяк-убийца Кюртен имел репутацию милого и весьма любезного соседа. О Барче, убивавшем детей, все говорили, что он прекрасно воспитанный человек. А вот убийца женщин Кристи, кровавый лондонский маньяк, тот вообще был полицейским. Пусть просто постовым, зато историки криминалистики так любят вспоминать об этом…
Я не случайно о них вспомнил. Ведь в полной мере все относится и к делу Хорстмана. И здесь был спрятан ключ ко множеству его загадок. Тому, кто хочет разобраться в этом, придется действовать по принципу: убийцы могут жить и во дворцах.
И не всегда легко криминалисту смириться с этим. Циммерман — тот может. А вот у Кребса до сих пор проблемы. И если я дошел до этого раньше других, то потому, что большую часть жизни прожил один, с единственным другом — псом. А звери преступлений не совершают. Здесь монополия у вершины творения — человека.»
* * *
Незадолго до шести Вальдемар Вольрих добрался до квартиры редактора Лотара на Унгерштрассе. Дубасил кулаками в дверь и жал звонок до тех пор, пока ему не отворили.
Лотар пришел открыть в синем халате на голое тело и улыбнулся спросонья, узнав Вольриха. Но тот, довольно грубо оттолкнув его, влетел в квартиру и остановился только в кабинете. Там он вдруг ухмыльнулся, заметив, что комната заполнена расставленными повсюду полками, витринами и стеклянными шкафчиками. И все полны изящных безделушек: фигурок, статуэток и игрушек дорогого фарфора из баварского Нимфенбурга, саксонского Майсена, голландского Дельфта, из южного Уэлльса и итальянской Флоренции.
— Что вам угодно? — спросил Лотар.
— Пожалуй, оглядевшись тут, я с удовольствием изобразил бы слона в посудной лавке, — вызывающе заявил Вольрих. — Это мой несбывшийся сон с детских лет.
— Это бы дорого вам обошлось, герр Вольрих.
— Но для кого? — Вольрих многозначительно усмехнулся. — Но об этом позднее. Теперь же основное, что я к вам послан руководством нашего издательства с приказом выдать все документы, оставшиеся после Хорстмана. Они с юридической точки зрения являются собственностью фирмы.
— А с чего вы взяли, что они у меня? — осторожно спросил Лотар. — Кто это вам сказал?
— Кем бы он ни был, одно ясно: Хорстман работал здесь, ты предоставлял ему убежище и теперь должен отдать его бумаги!
— Какие бумаги?
Вольрих шагнул к ближайшей полке и с циничной ухмылкой схватил оттуда прекрасную, тончайшей лепки фарфоровую фигурку арлекина, раскрашенную нежными красками, изделие Бустелли из Нимфенбурга. Ценою около восьми тысяч марок. Медленно подняв фигурку, он отпустил ее… осколки разлетелись по полу… И с детским наслаждением наступил на них.
Лотар побледнел.
— Вы мне за это заплатите.
— Почему бы и нет? — ответил Вольрих. — Но вначале ты должен дать мне то, что оставил Хорстман. Все его записи, заметки, вообще все, включая распечатки. И чтобы ты не сомневался — здесь много чего можно разбить. И я это сделаю в два счета!
— И в присутствии свидетеля?
— Откуда тут взяться свидетелю?
Лотар повернулся к дверям спальни, в которых появилась Мария-Антония Бауэр, секретарь редакции «Мюнхенского утреннего курьера». Она улыбалась, и в лице ее читалось презрение к Вольриху и радость, что испортила ему все дело.
Вольрих медленно отступил. Но, еще не закрыв за собой дверь, огорченно и угрожающе крикнул:
— Оба вы ненормальные! Ищете неприятностей на свою голову! Возьмитесь за ум, пока не поздно!
* * *
— Я ужасно устал, — Анатоль Шмельц устремил на жену страдальческий взгляд. — Просто смертельно!
— Знаю, — Генриетта с трудом подавила вспышку недовольства, — ты всегда до смерти устал, когда хочешь избежать разговора со мной. Но сегодня можешь не разыгрывать спектакля, я тебе не поверю!
— Весь свет сговорился против меня, — плаксиво жаловался тот, — никто не хочет дать мне хоть капельку покоя!
Они сидели лицом к лицу в гостиной виллы на озере Аммер в окружении собиравшейся годами дорогой обстановки, сочетавшей тонкий вкус с деревенской основательностью. Но Анатоль Шмельц не замечал окружения, в котором очутился. С обиженным видом взирал на жену.
— Человек ищет тихой пристани — и что находит?
— Женщину, которая не желает больше жить с тобой.
— Ну позволь, — заныл Анатоль, — тебе что, плохо живется? У тебя есть все, что душе угодно. И признай, я очень великодушен. Чего еще ты можешь хотеть?
— Развода, — она старалась преодолеть возбуждение и держать себя в руках. — И приличное обеспечение для меня и Амадея, нашего сына. Я хочу сама воспитывать его. Не могу больше видеть, в кого он превращается под твоим влиянием.
— Господи, да я делаю для него все, что только можно!
— И только портишь его и губишь!
— Ведь я люблю его! — с деланной экзальтацией воскликнул Шмельц.
— Да, и в знак своей любви купил ему холостяцкую квартирку в Швабинге, подарил спортивный автомобиль, даешь карманных денег больше, чем платишь своим редакторам, — и все для восемнадцатилетнего парня!
— И что, по-твоему, плохого, что я стараюсь дать ему все, чего недоставало мне в его возрасте?
— Ты знаешь, что он гомосексуалист?
— Ну и что такого? Что, мы живем в средневековье? — не унимался Шмельц. — И если на то пошло, знаешь, почему, по Фрейду, молодые люди становятся гомосексуалистами? От недостатка материнской любви!
— Знаю, ты способен на любую гадость. Взялся за Фрейда, которого в жизни не читал, лишь был бы повод меня упрекнуть. Измышляешь одну ложь за другой и пытаешься разыграть свой обычный номер — роль милого, заботливого и порядочного человека, которого никто не понимает и каждый старается обидеть!
— Я всегда старался…
— А я, Анатоль, не понимаю, как я могла столько лет сносить эти твои надутые фразы и позы, за которыми ты скрывал свои равнодушие и пустоту. Но теперь с этим будет покончено. Из-за Амадея!
— А как это ты конкретно представляешь? — осторожно поинтересовался Анатоль.
— Поручу своему поверенному подать ходатайство о разводе, — спокойно сказала она, — и буду настаивать на твоей вине. Потому что только так Амадея присудят мне…
— Но, Генриетта, это же абсурд! Парню восемнадцать лет, и он сам может решить, с кем желает жить. И сразу могу тебя заверить — решит он в мою пользу. И кроме того — как ты собираешься в суде доказывать мою вину?
— В моем распоряжении достаточно доказательств. Я собрала их постепенно.
— Откуда?
— От одного из редких настоящих друзей, от Хайнца Хорстмана.
— А ты знаешь, что он мертв? — Шмельц прикрыл глаза.
— Нет! — в ужасе воскликнула она. — Это невозможно!
— Он мертв, — повторил Анатоль, не подавая вида, что его взяла. — Попал под машину. Говорят, несчастный случай.
— Послушай, Анатоль, — после долгого молчания заметила Генриетта, — Ведь смерть Хорстмана…
— Мне очень жаль его, — торопливо перебил Шмельц. — Ведь он был лучшим репортером и моим другом!
— Каким там другом! — тихо сказала она. — Ведь он тебя презирал!
— Меня презирают все кому не лень, ты в том числе, — поморщился он.
— У Хорстмана была одна цель — рассказать всю правду о тебе. О твоей низости и продажности. И делал он это не только ради меня. Если кто и был по-настоящему тебе опасен — так это он!
— Не вздумай говорить кому-нибудь об этом! — вскричал Шмельц, едва не становясь на колени. — Тебе и в голову такое не должно приходить!
— Я говорю только то, что думаю, — заявила его жена. — Я тебя знаю. Если кому-то и на пользу смерть Хорстмана, так это в первую очередь тебе!
Мюнхен воскресным вечером. Зима понемногу идет к концу, мороз стоит уже только в горах, над городом нависли тяжелые серые тучи. Идет снег с дождем.
Тихо и спокойно в Швабинге. Кажется, всех утомил безудержный ночной разгул. С вокзала постепенно расползлись последние пьяницы, закрытые забегаловки выдыхают на улицу тяжелый перегар.
На масленицу в воскресенье приличные граждане отсыпаются. Кто-то уехал в горы и там теперь зевает в очередях на подъемник. Редкие ханжи выбрались на раннюю мессу в полупустых кирхах.
![Ричард Штерн - Вздымающийся ад [Вздымающийся ад. Вам решать, комиссар!]](https://cdn.my-library.info/books/253607/253607.jpg)